
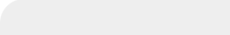
Смотрите авторскую программу Дмитрия Гордона30 октября-5 ноябряЦентральный каналАнатолий КОЧЕРГА: 4 ноября (I часть) и 5 ноября (II часть) в 16.40
|


| 

| 

26 марта 2010. Телеканал «Киев»
Легендарная «Пани Моника» Ольга АРОСЕВА: «Сталин сказал: «Приходи, вместе праздновать будем» — и протянул мне букет цветов»
В нынешнем году Ольга Александровна отметит сразу три юбилея — собственное 85-летие, 65 лет на сцене и 60 — в Театре сатиры

Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |
За 65 лет творческой жизни Ольга Александровна сыграла сотню ярких ролей на театральных подмостках и 30 — в кино, отработала немыслимое количество концертов, написала автобиографическую и кулинарную книги, которыми зачитываются любители мемуаров и вкусной, здоровой пищи, но до сих пор для большинства своих соотечественников она прежде всего пани Моника из культовой передачи 70-х «Кабачок «13 стульев».
Эта взбалмошная, бестолковая, но весьма энергичная особа совершенно не походила на ходульных персонажей советского телевидения, которые только и делали, что в поте лица повышали производительность труда. Элегантная пани Моника просто перевернула взгляды воспитанных в пролетарской аскезе родимых женщин: благодаря ей они вдруг осознали, что шляпок (а также сумочек и туфель) может быть много, что гардероб не обязательно должен исчерпываться одним платьем на все случаи жизни и что «тряпки» — отнюдь не троянский конь империализма, призванный развалить страну изнутри. Мужчинам, между прочим, она тоже весьма убедительно растолковала, что женское кокетство — это нормально, а вот женщина-шпалоукладчик — аномалия: кто знает, не эти ли «открытия» стали толчком к грядущим вскорости переменам?
На пани Монику (в отличие от Раисы Горбачевой, которая попыталась позднее этот эксперимент повторить) обрушилась поистине всенародная любовь. Почему? Да потому что при всем том «панстве» актриса умудрялась оставаться своей: неунывающей, понятной, родной. Не случайно же в жилах Ольги Александровны действительно течет голубая кровь (ее мать из польских дворян и окончила в свое время институт благородных девиц, а отец — видный советский дипломат) и первые девять лет жизни Аросева провела за границей.
Чуть округлая, как буква «О» в ее имени, звезда Театра сатиры никогда не комплексовала из-за отсутствия осиной талии — по этому поводу даже шутила: «На первых курсах мне давали играть лирических героинь, а потом природный юмор победил». Перед ее шармом, замешанном на жизнелюбии и авантюризме, не удавалось устоять никому, и даже желчный Валентин Гафт посвятил актрисе эпиграмму, которая больше смахивает на дифирамб:
Милы капризы и чудачества,
Когда таланта очень много.
На сцене верит в обстоятельства,
А в жизни верит только в Бога...
Впервые к званию заслуженной ее представили в 25 лет, а дали аж в 50, народной она стала лишь в 60... Формальная причина — отсутствие высшего образования, и что тут греха таить, прилежанием в учебе Аросева не отличалась. Десятилетку оканчивала экстерном, в цирковом училище прозанималась лишь два года, в десантной школе во время войны и того меньше, а из Московской городской театральной школы сбежала после третьего курса — рванула за Театром комедии в Ленинград, где предъявила кадровикам диплом сестры. Всю жизнь Ольга Александровна имела, по ее признанию, лишь один полноценный документ об образовании — «корочки» с курсов водителей троллейбуса, на которые пошла по настоянию Эльдара Рязанова, правда, недавно обзавелась и вторым — на 80-летие вахтанговцы торжественно вручили актрисе диплом Щукинского училища...
Она — комедиантка и всегда готова смешить, ибо смех продлевает жизнь. Никто не видел слез Аросевой, не слышал от нее жалоб: ни когда арестовали отца, ни когда в день похорон Сталина она, беременная, попала в давку и потеряла ребенка, ни когда падала в обмороки от голода или, сломав ногу, не доиграла спектакль... К ударам судьбы актриса относится философски: жизнь, дескать, каждого норовит ущипнуть, загнать в угол, оттереть в сторону, но надо уметь защищаться.
Не так давно, пока Ольга Александровна была на даче, в ее небольшую московскую двухкомнатную квартиру влезли воры. Перевернули все вверх дном, но ничего, достойного их криминального внимания, не нашли — не нажила хозяйка... Впрочем, она ни о чем не жалеет и мечтает лишь об одном — умереть на сцене. Хочет, правда,чтобы случилось это как можно позже.
«ОТЕЦ ДЕРЖАЛ В РУКАХ ЗАПАЯННУЮ КОРОБКУ С МОЗГОМ ЛЕНИНА И ДРОЖАЛ»
— Я, Ольга Александровна, поражаюсь, какой глубокий, просто-таки завораживающий у вас взгляд. От чего, скажите, у женщины могут блестеть так глаза?
— Очевидно, от встречи с вами — так полагается ответить? Ну а если серьезно — наверное, от природы. Может, и от профессии — кто ж его знает...
— Вы — дочь знаменитого большевика-дипломата Александра Аросева, и я даже читал, что ваш отец перевез мозг умершего Ленина из Горок в Москву — это не преувеличение? 
Три сестры — Наталья, Ольга и Елена Аросевы, середина 30-х годов |
— Истинная правда.
— Почему в таком случае мозг, а не сердце или, не знаю, печень?
— Видимо, для последующих поколений решили сберечь самое ценное (был даже основан Институт марксизма-ленинизма, где этот мозг хранился и, очевидно, хранится до сих пор). Трепанацию черепа врачи провели в Горках, а отцу доверили доставить ценнейший груз в столицу — это подтверждают соответствующие документы. У него даже рассказ есть о том, как держал в руках запаянную коробку с мозгом...
— ...серым веществом самого вождя!..
— ...и дрожал.
— Выдающиеся люди окружали вас с детства — кого вы запомнили из тех, кто бывал у вас дома?
— Больше всего меня поразил Ромен Роллан, который у нас прожил три дня. Отец работал тогда председателем ВОКСа — Всесоюзного общества культурных связей за границей — и старался приглашать в Советский Союз авторитетнейших деятелей культуры, писателей, с которыми был знаком. Таких набралось немало, потому что в свое время за революционную деятельность он был отправлен царским режимом в ссылку, откуда бежал, и в эмиграции жил в Париже. Свободно разговаривал по-французски, по-английски, по-немецки...
— Культурным был человеком на фоне коллег по партии...
— Да, а поскольку с Роменом Ролланом давно дружил (бывал у него в швейцарском городке Вильневе, останавливался в его доме), то всемерно содействовал, чтобы этот знаменитый писатель приехал в Москву. Гость захотел остановиться у нас в квартире, но потом все-таки его переселили в гостиницу «Националь»: тут, дескать, дети... Это был тусклый, сгорбленный старик, больной туберкулезом. Бледные, сероватые щеки и мышиного цвета накидка — мохнатая, с начесом, в которую он постоянно кутался. Глаза, правда, очень живые... Классик буквально всем интересовался, то и дело о чем-то спрашивал, а поскольку мы с сестрами начинали учиться в немецкой школе, с ним даже разговаривали.

Французский писатель Ромен Роллан с женой, Иосиф Сталин и Александр Аросев, 1935 год. «Роллан был тусклый сгорбленный старик, больной туберкулезом. Глаза, правда, очень живые...» |
— Сегодня большевики тех лет кажутся некой загадкой: трудно понять, что же они из себя представляли. Это были люди, слепо одержимые идеей, — полуграмотные или вообще безграмотные? Фанатики и убийцы?
— Они были разные. Мне сложно свидетельствовать, поскольку была ребенком и далеко не все понимала, но своего отца знаю: такие, как он, боролись за новую власть, мечтая о равноправии, это романтики, интеллигенция...
— ...идеалисты...
— Именно. Отец — так сложилась его судьба — непосредственно принимал участие в революции. Он был прапорщиком царской армии, и под его руководством войска перешли на сторону восставших большевиков. Стал членом военно-революционного комитета и начальником Штаба Вооруженных сил в Москве (там в отличие от Петрограда бои все-таки были), потом как образованного человека его бросили на дипломатическую работу (он служил послом в Латвии и в Литве, которые тогда были буржуазными странами, затем пять лет провел в Швеции и в Чехословакии), а по возвращении в Москву застал у власти других людей, далеко не романтиков.
— Как испокон веков повелось: задумывали революцию одни, совершали другие, а плодами воспользовались третьи...
— Да, и в столице был уже совершенно другой расклад. Отец упустил момент становления и прихода к власти новых людей, поэтому должность ему дали не слишком влиятельную. Он обиженно называл себя метрдотелем всесоюзного значения, но занимался этим с удовольствием. У него были большие связи за рубежом, он даже написал книжку «Наши друзья в Европе». По его приглашению здесь побывали Андре Жид, Виктор Маргерит, Ромен Роллан, папа умел налаживать связи с европейскими деятелями культуры.
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«Родители зачали меня в Париже, в знаменитом посольском особняке на Рю де Грепель... Потом отца назначили послом в Швецию — еще до знаменитой большевистской «феминистки», жрицы свободной любви Александры Коллонтай. Из Стокгольма — по внезапной, безумной любви к другому человеку — мама от отца и уехала (кругом виноватая, требовать и ставить условия она не могла). Отец сам захотел нас воспитывать, и первые свои шаги по земле я сделала в Швеции, а ген театра впервые проснулся во мне в Праге. Этот ген тоже от отца — он даже на официальных приемах в те строгие, жестко подконтрольные времена пел и вдохновенно долго читал гостям стихи русских поэтов, рассказы Чехова и Зощенко. Я тоже была постоянным «выступальщиком» — на посольских концертах для сотрудников... 
Ольга Аросева в спектакле Театра сатиры «Домик» по Валентину Катаеву, 1953 год |
Рядом с посольством находился известный Театр на Виноградах — туда в 30-е годы привез молодой театральный реформатор, пламенный коммунист Бертольд Брехт свою знаменитую «Трехгрошовую оперу». Заядлый театрал, отец, конечно, отправился на спектакль и прихватил нас, трех дочек. Последствия оказались плачевными: из хороших, новых платьев я и моя подружка-чешка нарезали лохмотья (совсем такие, как у жуликов-оборванцев мистера Пичема), переоделись и отправились просить милостыню. Из нас двоих более красноречивая, я рассказывала душераздирающую историю о том, что мама нас бросила, а папа занят и денег не дает, — почти автобиографию... Сердобольные горожане останавливались, удивляясь, отчего две милые крошки в таком жалком виде вынуждены побираться на холодной улице...
История о том, что дочка советского посла переоделась нищенкой и просит на улицах Праги милостыню, попала в газеты — прочитав скандальную информацию, отец сел за стол и схватился руками за голову: «Боже мой, за что мне все это?..».
В это же время случилась другая «театральная» история. Когда Гитлер в Германии рвался к власти и в Чехии начались массовые демонстрации протеста, мы с сестрами ввинтились в толпу взрослых и тоже пошли в колонне, выкрикивая антифашистские лозунги. В конце концов нас забрали в полицию, и мы снова попали на страницы газет. Корреспонденты уже без шуток спрашивали: «Что, собственно, позволяют себе в лояльной по отношению к немцам Чехословакии дочери советского посла?» — и опять папа сидел за столом, обхватив голову руками...».
«ЕЖОВА ПАПА НАЗЫВАЛ КОЛЕЙ — ВОТ И ОТПРАВИЛСЯ К НЕМУ НА ЛУБЯНКУ. ОТТУДА УЖЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ...»
— Думаю, в мире очень мало осталось людей, которые видели живого Сталина, но вы, пожалуй, единственная, кому вождь лично дарил цветы. При каких обстоятельствах это происходило?
— Раньше, когда я об этом рассказывала, никто мне не верил (мол, ну и воображение!), но когда мой творческий вечер записывали на телевидении, режиссер пообещал: «Поедем в Белые Столбы (где находится архив Госфильмофонда России. — Д. Г.) и попытаемся что-то найти, потому как все, что со Сталиным связано, там есть». Они, в общем, нашли эту пленку — кинохронику, где Сталин вручает мне цветы.

С любимой подругой Лялей Землеглядовой, Ленинград, 1948 год |
Это было 12 июня 1935 года: в подмосковном Тушино в честь Дня авиации проходил парад. Трибун тогда не было, и все вожди стояли на земле в чистом поле. Отец привел нас с сестрой Леной и встал, естественно, не в первых рядах, а где-то сзади: в это время появился человек в расстегнутой шинели, который быстро шел сквозь толпу, потому что все перед ним расступались, — это и был Сталин. Возле нас он вдруг остановился и произнес: «Как не стыдно — большие встали, а маленьким детям ничего не видно». Взял нас за руки и вывел вперед. Помню, такое огромное небо открылось, поле до горизонта...
Он спросил: «Сколько тебе лет, девочка?». — «21 декабря будет 10», — ответила я (почему и запомнила точно год). Вождь усмехнулся в усы: «Ты смотри, оказывается, мы ровесники. Я тоже 21 декабря рожден — приходи, вместе праздновать будем».
— В Кремль?
— Адрес Иосиф Виссарионович не указывал — просто сказал: «Приходи», а в это время прыгали парашютисты и дарили членам Политбюро цветы. Свой букет Сталин протянул мне: «Вот тебе наперед с днем рождения». Я отсалютовала: «С пионерским приветом...
— ...Оля Аросева!»...
— ...и ретировалась за спины старших товарищей.
— Приглашением вождя вы воспользовались? 
Парад в Тушино. Александр Аросев с дочерьми (впереди Оля), Лазарь Каганович, Иосиф Сталин, Клим Ворошилов и другие, 12 июня 1935 года. «Как не стыдно, — сказал Сталин, — большие встали, а маленьким детям ничего не видно» |
— Ну разумеется. 21 декабря, ничего не сказав отцу, я купила горшок с высоченной гортензией (так как дело было зимой, мне ее упаковали, как следует) и направилась в Кремль через Боровицкие ворота. Подхожу к сторожевой будке со свертком наперевес, а меня караульные окликают: «Ты куда?». — «К товарищу Сталину на день рождения», — говорю, а они уже обертку рвут на подарке: «Это что такое?» (завернутая гортензия, такая длинная, выглядела, как автомат). «Осторожнее, — прошу их, — там цветы, они могут замерзнуть».
Как уж я ни орала, охранники все распотрошили, вынули горшок, потом удалились куда-то... Вскоре слышу оттуда хохот... выходят они: «Девочка, мы позвонили. Иосиф Виссарионович очень тебя благодарит, но он сейчас занят. Цветы мы ему передадим, а ты иди домой». Когда я пришла к отцу и сказала: так, мол, и так, я в Кремль ходила... — что с ним было!
— Представляю...
— Он чуть в обморок не упал, едва с ума не сошел... На этом мои встречи со Сталиным и закончились.
— В 30-е началось массовое истребление советских людей и сознательное превращение их в лагерную пыль. В первую очередь под маховик репрессий попали руководители страны, те, кто, в общем-то, революцию делал, а это правда, что ваш отец, чувствуя, как кольцо вокруг него сжимается, сам поехал к возглавлявшему НКВД Ежову в надежде поговорить с ним по-мужски?
— Да, Николая Ежова он знал по Казани, откуда был родом, — тот во время гражданской работал у отца каким-то инспектором по идеологии. Папа его называл Колей — вот и отправился к нему на Лубянку...
— ...поговорить как коммунист с коммунистом?
— Наверное, но оттуда уже не вернулся: секретарь напрасно прождала его в машине весь день. Впрочем, об этом мы узнали потом. Стояло лето, я была в лагере...
— В пионерском?
— Естественно, а когда возвратилась, родственники сообщили, что отец в командировке. Меня это не удивило — он часто куда-то ездил, но я поразилась тому, что в нашу квартиру меня даже на порог не пустили.
— Где вы, простите, жили?
— В знаменитом Доме на Набережной, в пятом подъезде. «Как так?» — стала я возмущаться, а вахтер там стоял очень хороший, который всегда надувал на мой детский велосипед шины. Оглянувшись, не видит ли кто, он сказал: «Иди, иди отсюда! Иди!».
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«Как и обычно никому ничего не сказав, я отправилась в Дом на Набережной, в наш подъезд. Велосипеды и детские коляски наверх в квартиры не поднимали — для них на первом этаже рядом с вахтером имелась специальная комната.
Я сказала вахтеру, что пришла за своим велосипедом. Он страшно испугался и стал просить: «Девочка, уходи, ради Бога, уходи...». — «Нет, — твердо ответила я, — мне нужно взять мой велосипед». Он умолял: «Бери, бери, только уходи скорее...». Я ему говорю: «У меня шины спущены, накачайте, пожалуйста...». Вежливый и уступчивый, он всегда ребятишкам шины качал. А в этот раз не стал. Только просил шепотом: «Уходи, ради Бога, уходи...».
Со спущенными шинами я отправилась через всю Москву пешком на Писцовую. Мне тогда 12 лет не было — так устала, что сил подняться в мамины комнаты на четвертом этаже уже не было.
Кричу снизу: «Мама! Мама! Я велосипед сама не могу поднять». Она в окно высунулась: «Это что такое?». — «Это мой велосипед». — «Где ты взяла?». — «Я дома была». — «Как дома? Где дома?».
Она, бедняга, выскочила, вырвала у меня из рук велосипед. Я стала плакать, а она побежала в «ГПУ, НКВД, КГБ»... Она всегда путала все эти страшные сочетания букв. Побежала сдавать мой велосипед и просить прощения: «Девочка не знала, что нельзя... Ей только 12...». Как часто бывало в маминой жизни, к ней и на Лубянке отнеслись сочувственно, сказали: «Берите троих детей, зайдите в бывшую их квартиру, возьмите вещи».
Написали список необходимого. В Дом на Набережной пошли старшие сестры и мама, меня не взяли. Там уже была какая-то женщина — шепотом она посоветовала: «Возьмите часы вашего мужа... Они дорогие...». Мама сказала: «Нет, только то, что по списку: туфельки, рубашечки...». Ничего не хотела взять лишнего, так была перепугана».
Я верила родственникам, которые обещали, что отец приедет, а потом... Нужно сказать, что чем дольше на свете живу, тем яснее себе представляю его облик. Мне было 12 лет, когда папы не стало, но у его сестры, моей тетки, остались отцовские дневники, которые я только недавно получила.
— Да вы что?!
— Да, и благодаря им постепенно мое знакомство с отцом углублялось. Мы ведь уже знаем не парадно-приглаженную, а подлинную историю страны: весь этот гиньоль (пьесы, спектакли и сценические приемы, основанные на изображении преступлений, злодейств, избиений и пыток. — Д. Г.), этот ужас мы досмотрели уже до конца, но вот что людьми двигало, как развивалось действо и как эта пружина раскручивалась, мне стало ясно только сейчас.
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«В последние годы отец регулярно писал... Предвидя и опережая события, он спрятал свои «Дневники» не у московских друзей, а в Ленинграде — у сестры, актрисы Александринского театра. После его ареста жилье Августы Яковлевны обыскивали много раз, но ничего не находили... Уже работая в Ленинградском театре комедии, я часто бывала у тетки, проходила к ее комнате через бесконечный полутемный коридор. Старый сундук загораживал движение, а в 1956 году из этого ничейного коридорного сундука, на который при обыске никто не обращал внимания, с самого дна были извлечены папины тетради...

«Пролитая чаша», служанка Хун-Нян, Театр сатиры, 1952 год |
Вскоре я взяла путевку в дом творчества кинематографистов «Репино» на берегу Финского залива и там неделю, почти не засыпая, читала папину исповедь — в ту неделю почти ослепла от его почерка и от слез...
Из дневника отца.
9 ноября 1932 года. «Утром пришел к Ворошилову. Его нет — экстренно вышел. Иду к Молотову, он встречает меня на лестнице... спешит, напяливая наспех пальто... Через два часа все стало известно.
Вчера был товарищеский ужин у Ворошилова. Жена Сталина Аллилуева была весела, симпатична, как всегда... В час или два ночи она, Сталин, Калинин ушли. Она пошла домой, а Сталин и Калинин решили проехаться по Москве. Вернулся Сталин поздно, часа в три. Заглянул в комнату Аллилуевой — она спит. Ушел и он. В восемь часов домработница Аллилуеву будит. Она не реагирует. Работница открыла одеяло — Аллилуева мертва. Одна рука откинута, другая окоченела в сжатии маленького металлического револьвера, дулом направленного в сердце.
Работница позвонила Енукидзе, тот вызвал Молотова и Ворошилова. Они пришли к Сталину, разбудили его... Ответственные и неответственные работники партии убеждали друг друга, что она умерла, однако почти все знали истину...». 
Олечка Аросева в начале своей сценической карьеры. Театр сатиры, 50-е |
Многое прочитывается в этой записи между строк. Например, рождение легенды о естественной смерти Надежды Сергеевны Аллилуевой, которую якобы погубил приступ аппендицита, когда муж, Сталин, находился на даче... Чтобы снять малейшую тень подозрения с вождя, всю кремлевскую обслугу, видевшую, что не на даче, а дома находился Сталин в ту страшную ночь, разошлют по лагерям...
13 августа 1936 года. «...Мысль всех моих мыслей — мысль о смерти... Не знаю, много ли мне осталось, но со всей энергией я решил такую жизнь оборвать. Теперь жду, что ответит мне Сталин. Письмо к Сталину я отправил в адрес Вячи...».
...Прочла и завещание отца, оставленное нам, дочерям, и сыну Дмитрию:
«Прежде всего, дети, не живите, как я. Я был недостаточно смел по отношению к самому себе. Чувствуя большие артистические силы (делать литературу, играть на сцене), я как-то мял это в себе и стеснялся...
...Прошу вас, дети, развертывать свои таланты и способности вовсю и на глазах всех. Стесняться надо, скромным быть следует, но не чересчур, не дико... Доверяйте коллективу и проверяйте себя через коллектив, но растворяться в обществе и становиться бесцветно-серым тоже не надо... И будьте всегда до жестокости откровенны с самими собой».
«МОЛОТОВ ВЫДАВИЛ ИЗ СЕБЯ ОДНУ ФРАЗУ: «УСТРАИВАЙ ДЕТЕЙ»
— Он таки дошел до Ежова или арестовали его на подходе?
— Наверное, дошел... Уже после перестройки я получила доступ к архивам и читала протоколы его допросов. Знаю, что он был расстрелян в Москве, в подвале на улице 25 октября вместе с Антоновым-Овсеенко.
— Еще один выдающийся большевик из первых советских наркомов...
— Какое-то время мы с их семьей жили в Праге — Антонов-Овсеенко-старший тоже был полпредом в Чехословакии, его сын Володя знал моего отца...

Актрисы Вера Васильева, Бронислава Тронова и Ольга Аросева на целине, 1952 год |
— Он, если не ошибаюсь, написал потом книгу...
— Да, Володя историк, и он говорил мне: «Работая в архивах, я всегда смотрел, где дядя Саша, потому что они на одну букву». От него я узнала, что на последнем допросе наши отцы были вместе: в документах указано, что «подсудимые свою вину не признали».
— Их мучили, пытали?
— Видимо, нет, потому что они — это такая была тактика! — соглашались во время допросов со всеми обвинениями, чтобы их не избивали, но надеялись, что на суде смогут все опровергнуть, и когда их судили, сказали, что вынуждены были оговорить себя, что ни в чем не виноваты. От них требовали: «Подпишите», но они наотрез отказались, и Ульрих махнул рукой: «Эти не подпишут».
— Василий Ульрих, возглавлявший Военную коллегию Верховного суда СССР, присутствовал на процессе лично?
— Он председательствовал и были еще два человека — отца и Антонова-Овсеенко так называемая тройка судила.
— Что им инкриминировали?
— Шпионскую деятельность, подрыв государственности, но никакой критики все обвинения не выдерживали. Например, на допросах отца спрашивали: «Вы встречались с сыном Троцкого в Париже в таком-то году?». — «Да, — отвечал он, — в таком-то году, в таком-то месяце», а когда при реабилитации стали все проверять (это ведь не автоматически делалось), выяснили, что того уже в живых не было (оставшийся на родине младший сын Троцкого Сергей Седов в 1935-м году был арестован и в октябре 1937-го расстрелян. — Д. Г.). Отец, получается, давал ложные показания, что было легко доказуемо...
— ...но заниматься этим никто не хотел...
— Никто!
— Через сколько дней после оглашения приговора его расстреляли?
— Сейчас скажу. Тройка заседала 8 февраля, а через два дня... Когда точно расстреляли, не знаю, но в справке указано: «Приговор приведен в исполнение 10-го...».
— Семье сообщили сразу?
— Какое там — все время врали. Мы выстаивали огромные очереди, чтобы хоть что-то о нем узнавать, — нам говорили, что он осужден на 10 лет без права переписки.
— Вы верили, что он жив?
— Ну конечно, и спустя 10 лет подала заявление на пересмотр дела. Мало того, вскоре после ареста я же Сталину письмо отправила.
— Что написали?
— Что мой отец не виноват и «с пионерским приветом» опять-таки Оля Аросева. Как ни странно, я получила ответ (не от вождя, разумеется, а из его «конторы»), что дело назначено к пересмотру, но, как сейчас понимаю, в живых его уже не было.
— Это правда, что Александр Аросев был личным другом соратника Сталина № 1 Молотова?
— Да, они вместе учились. Молотов снимал комнату, а, по сути, жил в семье моей бабушки в Казани.
— Ваш отец, получается, мог перед тем, как пойти к Ежову, посоветоваться с Молотовым?
— Он все время ему звонил, но тот либо клал трубку, либо ничего не говорил.
— Просто молчал?
— Да. Папа кричал: «Вяча, я же слышу, как ты дышишь — ну скажи, что мне делать!.. Хоть два слова...». В конце концов тот выдавил из себя одну фразу: «Устраивай детей».
«ЗАЧЕМ У СТАЛИНСКИХ ПОДРУЧНЫХ ЖЕН ЗАБИРАЛИ? ДУМАЮ, ЭТО БЫЛ СПОСОБ ДАВЛЕНИЯ НА НИХ — ЧИСТО АЗИАТСКИЙ, ИЕЗУИТСКИЙ»
— С Молотовым вы после этого встречались?
— Да, я послала ему справку о том, что отец реабилитирован «ввиду отсутствия состава преступления». На конверте написала просто: «Кремль, Молотову» — и приписку сделала: «Наверное, вам будет небезынтересно узнать, что ваш школьный товарищ ни в чем не виноват».
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«Прошло 16 лет со дня катастрофы: я стала взрослой, стала актрисой, но боль об отце жила во мне все эти годы, не отступая даже тогда, когда я была счастлива, влюблена и переживала радостные мгновения успеха. Прочитав справку о реабилитации, я почувствовала, как устала от этой боли и как тяжелы бывают правда и точное знание, убивающие надежду. Теперь ждать было нечего, но ни мстительного чувства к Молотову, ни желания возмездия я не испытывала. Даже не могла крикнуть, как сестра Наташа: «Рожу его видеть не хочу!».
В 1955 году Молотов еще оставался очень высокой властью. После смерти Сталина прошло совсем немного времени, чтобы за такой короткий срок мы научились не уважать власть, как навсегда повелось со времен Хрущева. Тогда мы ее еще боялись, да и точных сведений, что Вячеслав Михайлович причастен к гибели моего папы, у меня не было — я только знала, что он не помог, ни разу о нас все эти годы не вспомнил.
Мне очень хотелось знать, почувствует ли он и такие, как он, — решавшие, осуждавшие, — стыд: переменится ли в лице, прочитав, что ближайший его друг, для спасения которого он и пальцем не шевельнул, безвинно погиб».
...Молотов тут же прислал машину и всех, кто в семье остался, просил приехать к нему в Кремль. Тогда еще он не был снят с должности министра иностранных дел...
— ...и члена Президиума ЦК КПСС...
Главный соратник Сталина Вячеслав Молотов с женой Полиной Жемчужиной и дочерью Светланой, конец 30-х. «Точных сведений, что Вячеслав Михайлович причастен к гибели моего отца, у меня не было — я только знала, что он не помог, ни разу о нас за все эти годы не вспомнил» |
— Поехали мы с моим племянником, сыном старшей сестры, приняли нас прекрасно... Жена Молотова Полина Семеновна — чудный человек — обняла меня и долго не выпускала из объятий, а потом...
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«...А потом появился он. Совсем не изменившийся, коренастый, в костюме и жилетке, курносый, бледный, в пенсне, с любезной улыбкой опытного дипломата и с тем же закрытым, нейтральным выражением, которое я помнила с детства. Губы улыбались, но улыбка ничего в бесстрастном этом лице не меняла».
Вячеслав Михайлович почему-то держал в руках эту справку. «Та-а-ак... Ввиду отсутствия, — он «окал» немножко, — состава преступления... Та-а-ак, 55-й год... А арестован в 37-м... Долгонько разбирались!».
— Бездушным он был человеком?
— Очень сухим, без эмоций — весь в себе, но тут явно переживал — я это видела... Молотов настолько расстроился, что не стал с нами сидеть, удалился.
— Его жена, видная большевичка, первый зампредседателя Совнаркома СССР, Полина Жемчужина тоже была репрессирована (как и супруга «всесоюзного старосты» Михаила Калинина). Зачем, по-вашему, у сталинских подручных, всемерно вождю преданных и послушных, варварски забирали жен?
— Не знаю, но думаю, что это был способ давления на них — чисто азиатский, иезуитский. Тем самым их держали на крючке, потому что те, наверное, умоляли: «Только не убивайте — я буду служить верой и правдой».
— Жемчужина не говорила вам, пытался ли Молотов добиться ее освобождения?
— Нет, сказала только: «Ты не сердись на него за отца — он даже для меня ничего сделать не мог».
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«Почувствовав неловкость, быстро заговорила Полина. О себе, о своей ссылке, о том, как ее отправили в Караганду под чужим именем, как Молотов по приказу Сталина с ней развелся и как она молила, чтобы ей разрешили хоть кошку в мазанке-хибаре завести.
В лагере человек мучился оттого, что жил постоянно на людях, в человеческом скопище — там и умирал, а Жемчужина четыре года ссылки страдала оттого, что не видела вообще никого, кроме постоянно приезжавшего оперуполномоченного. Каждый вечер, прижимая к себе теплую мурлыкающую кошку, она выходила в пустую степь, смотрела на закат и тосковала по дочери и мужу. У нее не было ни радио, ни газет — никого, кто мог бы сообщить ей даже самые незначительные новости. О смерти Сталина она так и не узнала, и вот однажды, выйдя как-то мартовским вечером в степь, увидела, что по ровной ее поверхности на огромной скорости, с включенными на полную мощность фарами приближается большая машина. Все ближе, ближе... Она поняла: за ней приехал муж, что-то переменилось и ей разрешат вернуться».
«За обедом я заметила, как много и жадно ест Полина Семеновна, в моей детской памяти — привередливая малоежка. Поймав мой взгляд, она объяснила: «Никак не могу наесться — ворую со стола, кладу себе под подушку, а ночью ем...».
— Неужели после того, как она вернулась из лагерей, они как ни в чем не бывало спокойно жили?
— Да — Полина Семеновна считала, что это была попытка подобраться к мужу. От нее требовали показаний против него, все время спрашивали: «А Молотов знал об этом?». Она отвечала: «Не знал!» — и спасла его этим от смерти. Ей же инкриминировали шпионскую связь с Голдой Меир — в то время премьер-министром Израиля.

«Безумный день», секретарша, 1956 год |
— Ну да, они же подругами были...
— Я бы так не сказала, но Жемчужина пошла в синагогу, а там Голда Меир ходила с подносом — собирала пожертвования на только образовавшееся государство Израиль. Полина Семеновна сняла с себя все: перстень, серьги с бриллиантами — и туда положила. Просто я слышала, как моя мама (она работала у Жемчужиной, они ближайшими были подругами) ей сказала: «Ты что, Полина, с ума сошла? Ты же жена крупного государственного деятеля!», а та, помню, в театральную позу встала: «Прежде всего я дочь своего народа».
— Доигралась...
— После этого ее и взяли.
...На обеде Жемчужина стала расспрашивать, как умерла моя мать. Я объяснила, что жила в Ленинграде и не могла к ней переехать, потому что у мамы с моей сестрой комната была 11 метров. «Конечно, — сказала, — мне следовало быть рядом, особенно после двух инсультов, когда у нее отняло правую сторону, но где жить?».
Полина Семеновна удивилась: «Почему ты не обратилась к Вячеславу?». Я объяснила, что пыталась, а поскольку достать Молотова не могла, решила действовать через его брата Николая Нолинского — был такой композитор. Написала письмо, где просила дать маме какую-то площадь побольше, чтобы я могла проживать с ней. «Вы, Николай Михайлович, можете передать?» — спросила. Он отказался: «Не могу — я дал подписку, где обязался никаких писем брату не передавать». Жемчужина не выдержала, закричала на мужа: «Где же у вас сердце? Какие же вы безжалостные, мертвые, страшные люди! Моя подруга умирала — жена твоего первого, лучшего друга. Как вам не стыдно?!».
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«И я поняла, что не об одной маме, не о нашей тесной комнатушке ее вопли... Она кричала обо всем сразу. И о себе, и о том, как ее мучили, позорили, чернили в кабинетах Лубянки, а он, ее муж, второе лицо в государстве, постыдно молчал. Кричала о своем народе и о людях других национальностей, но той же, что у нее, судьбы — ссыльных и лагерных. Что-то прорвалось в ней, неудержимо хлынуло...».
— Молотов как-то отреагировал?
— Молчал, как всегда.
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«Какое-то время спустя позвонила Светлана Молотова и пригласила к ним на обед. Никакая охрана в подъезде уже не стояла, и никто пропусков у меня не спрашивал — Полина Семеновна сама открыла на мой звонок дверь и, как в ту встречу, в Кремле, крепко меня обняла. Потом спросила: «Ты Вячу не видела? Он пошел тебя встречать». Это было что-то новое. Молотов? Встречать меня? Я удивилась и промолчала, а в это время вошел он и остановился в нерешительности. Полина Семеновна ему говорит: «Вяча, это Оля, ты же ее маленькую на руках носил, грудную, помнишь? Это — Оля! Ну же, поздоровайтесь...». Вот тут он сказал: «Да, да... Саши Аросева дочка. Так ведь дочка может и руки мне не подать... Я перед Сашей виноват...».
Я заплакала: «Вячеслав Михайлович, давайте этой темы никогда не касаться. Вы папу со школьных лет знаете, я пришла к вам, к его другу детства... Никого уже и не осталось, кто папу мальчиком помнит: вы — единственный». Тут вмешалась Полина: «Оля, поверь, он ничего сделать не мог... Не мог ничего сделать... Ты этого времени, этих людей не знаешь, маленькая была, а я знаю! И все! И хватит! И пошли, пошли к столу!».
Никаких кремлевских разносолов и изысков на этот раз на столе не было, да и нынешняя квартира Молотова была небольшая, двухкомнатная. Полина Семеновна угощала тем, что настряпала сама: очень вкусным салом, которое солила по какому-то особому рецепту — учила меня, как его приготовлять, перечисляла компоненты: чесночок, лавровый лист, молотый перец, хрен, разведенный в теплой воде, и под грузом держать два дня при комнатной температуре... Потом, улыбаясь мягко, печально вдруг сказала: «Это у нас в Белоруссии так сало готовят...».
Раньше я не слышала, чтобы она так тепло детскую, местечковую, деревенскую свою родину вспоминала. Все Кремль, да Москва, да Россия, а у Молотова возле тарелки с супом лежала очищенная луковка и несколько долек чеснока, и он ими аппетитно хрупал».
«...Жемчужина умерла раньше своего мужа. На похоронах было очень много народу — и ее, и его друзей. Я узнала Микояна, внука Сталина подполковника Джугашвили, очень похожего на деда. Старенький Булганин (министр обороны, а затем Председатель Совета Министров СССР, маршал. — Д. Г.) в штатском, а не в генеральской форме, спрашивал: «Выпить, выпить-то дадут? Куда ехать?».
Потом мы хоронили его. Из-за репетиций на кладбище я вовремя не успела, пришла прямо на поминки... Протиснулась к его дочери Светке... Позже тихо, шепотом спросила: «Отец что-нибудь оставил? Успел написать воспоминания?». Света тихонько так, на ухо мне ответила: «Что ты, Оля! В ту же секунду, как он умер, они приехали, опечатали квартиру, а потом дачу в Жуковке и все бумаги взяли с собой. Еле упросила парадный форменный мундир мне на память оставить».
Его похоронили в могиле Полины, а после отца с матерью недолго прожила и Света — умерла скоропостижно...».
— Сколько лет было Молотову, когда он скончался?
— Так, это в 86-м случилось, а они с отцом одногодки, 1890 года рождения... 96, значит...
Помню, на 85-летие я позвонила ему — он жил в Жуковке всеми отвергнутый. «Я вас поздравляю», — сказала. Он: «С чем, детка?». — «Ну как с чем? С днем рождения». Молотов вздохнул: «Какой день рождения, когда жизнь твоя никому не нужна? В тягость она, и радости от нее нет никакой», на что я заметила: «Но это же жизнь — вы ходите по земле, дышите»...
— ...между прочим...
— Он понял. «Ты умная девочка», — произнес. Все.
— Похороны его были пышные? 
С Роланом Быковым в картине «Это начиналось так...», 1956 год |
— Нет, людей пришло мало.
— Вам было его жаль?
— Да.
— Но почему?
— Понимаете, есть разные привходящие обстоятельства... Он же когда-то был дядей Вячей — добрым старым знакомым, носил меня на руках — я с детских лет его помню. Молотов — единственный человек, который знал отца с детства, учился с ним в одном классе, поэтому ненависти у меня не было. Кстати, любопытную вещь обнаружил его внук Вячеслав Никонов...
— ...известный политолог?
— Да, сын Светланы. Недавно меня пригласили в Дом дружбы народов — так теперь называется Всесоюзное общество, где когда-то работал папа, — на какой-то юбилей: просили рассказать об отце, поскольку он это учреждение возглавлял. Пришел, короче, этот Вячеслав, Слава, Славик Никонов, и при всех меня огорошил: «По вашему примеру я сейчас занимаюсь бумагами деда, и знаете, нашел все письма вашего отца с 26-го года — он их берег». Я чуть с ума не сошла: «Ты принес их? Ты мне их отдашь?». Он кивнул: «Да!» — и протянул целую пачку.
— С какими чувствами вы их читали?
— Во-первых, я еще не все прочла. Понятно, что там везде «дорогой Вяча» (20-е годы, они дружили...), но почерк жуткий, к тому же это ксерокопии — Никонов, конечно, не подлинники дал. Меня поразило то, что этот сухой, законопослушный, боязливый человек все-таки не побоялся столько лет держать письма расстрелянного врага народа — понимаете?
«ЗА ТО, ЧТО СЕСТРА ПУБЛИЧНО ОТРЕКЛАСЬ ОТ ОТЦА, Я ЕЕ БИЛА»
— Это правда, что в знак протеста против того, что отца репрессировали, вы решили не поступать в комсомол?
— Я ничего не решала, просто в 14 лет мне нужно было туда вступать, но моя старшая сестра — она уже была комсомолкой! — от отца отреклась. Ее заставили это сделать публично, на собрании.
— Вы ее за это не осуждали?
— Я ее била, хотя она на семь лет меня старше. Наташа даже не сопротивлялась — наверное, все понимала, а меня предупредили: при поступлении в комсомол надо сказать, что от отца своего — врага трудового народа отрекаюсь. «Не буду этого делать!» — отрезала я.
— И вас не приняли?
— Мне могли отказать, если бы я поступала, но заявление: «Прошу принять меня в ряды ВЛКСМ» я не писала.

Дмитрий Гордон: «От чего, Ольга Александровна, у женщины могут блестеть так глаза?». Ольга Аросева: «Очевидно, от встречи с вами...»
|
— Чтобы завершить эту жуткую тему, спрошу... Сегодня, когда столько известно о репрессиях и их жертвах, вы можете сформулировать, что это было? Какую цель, на ваш взгляд, преследовало столь массовое истребление людей?
— Вы знаете, до конца понять не могу, и это все время меня мучает. Я вот пытаюсь представить, что должен был чувствовать отец, когда свои же, за кого он готов был отдать жизнь, его расстреливали.
— Ни за что, причем.
— Да, без малейшей вины. О чем он думал? Мне кажется, только о детях, поскольку уже понимал, что остаются они без него. Что это было? Конечно, борьба за власть, вернее за единовластие, потому что Сталин хотел быть одним-единственным народным кумиром и своей цели добился. Для меня это загадка: как, пересажав половину страны, стать ее идолом? Что же это за народ такой, спрашивается, ведь это же правда, что, идя в бой, люди кричали...
— ...«За Родину! За Сталина!»...
— ...и когда этого страшного человека хоронили, я, зная все, плакала.
— Вы были на его похоронах?
— Нет, не дошла. Меня чуть не раздавили в тот день — я добралась до Трубной площади по скверу, цепляясь за ограду, за ветки деревьев.
— «Ходынка» была?
— Да, потому что все шли в ту сторону, чтобы повернуть к Колонному залу. Нет, в гробу его я не видела, но главное в том, что это обожествление, поклонение все-таки невыдуманное — народ действительно был в отчаянии.
— Сами-то вы почему плакали?
— Не знаю... Было какое-то ощущение, что мы что-то важное теряем и всем теперь будет плохо. Он как-то сумел в этом нас убедить.
— У вас есть сегодня к нему, к Сталину, ненависть?
— Понимаете, я не назвала бы это ненавистью, просто есть удивление: как, ну как это могло случиться? Вы вот спрашиваете, а я до сих пор не могу этот феномен объяснить. Нет, не могу...
— Такое возможно, на ваш взгляд, в России еще раз?
Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |
— А черт его знает — русский народ в этом отношении непредсказуем. Вот, например, храм Христа Спасителя — говорят: «Пришли большевики и его разрушили». Зачем же себя обманывать: не большевики разметали его по кирпичику. Вы хронику смотрели? Видели лица этих остервенелых людей, которые срывали кресты? Такое нигде, кроме нас, невозможно: храм, который царь на народные средства возвел, тот же народ снес, а потом еще раз отстроил — фантасмагория! Так что в нашей стране, по-моему, все может произойти.
— Удивительный народ...
— Поразительный, а вместе с тем и несчастный, и страшный, и добрый в каких-то ситуациях...
«В ВОЙНУ СМОКТУНОВСКИЙ ПОПАЛ В ПЛЕН, БЕЖАЛ, ПОТОМ СВОИ ЖЕ ОТПРАВИЛИ ЕГО В ЛАГЕРЯ»
— Вы блестящая театральная актриса, но, если говорить о вечности, шагнули туда прежде всего как кино— и телезвезда. На вашем счету яркие роли в потрясающих лентах «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Интервенция», хотя такой популярной вы стали благодаря не столько кинематографу, сколько телепрограмме «Кабачок «13 стульев».
— Это точно, потому что «Кабачок» все-таки ежемесячно выходил, а фильмы от случая к случаю, вдобавок лучшие достижения в кино у меня довольно скромные. Я там не прима, понимаете? — всегда вторые роли играла.
— Зато какие вторые роли!
— И с какими партнерами: Смоктуновский, Никулин, Папанов... В кинематографе вообще все большие свершения за актерами театральными, потому что у них за плечами...
— ...школа...
— Вот именно. На съемочной площадке достоверность, правдивость эпизода зависят в основном от искусства оператора: в той или иной сцене он может прикрыть недостаток, скажем, эмоциональности — какие-нибудь капли дождя пустить, падающую листву, и лицо актера преобразится, у вас на глазах будут слезы, а в театре этого эффекта нужно достигать самому, поэтому... Да, кино действительно дает популярность или, как вы говорите, вечность, но к нему нужно быть подготовленным театром.
Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |
— Вы вот назвали партнеров... Тяжело было сниматься в «Берегись автомобиля» с таким грандиозным актером, как Смоктуновский?
— Легко. Да, представьте себе. Знаете, он немножко, что ли, придуманный и попытался со мной тоже что-то изобразить.
— На вшивость хотел проверить?
— Ну да, и когда первый раз встретились, елейным, вкрадчивым голосом (ну точно Иудушка Головлев в мхатовской постановке) спрашивать стал: «Простите, я не помешаю вам, если здесь сяду? Простите, вас Оленькой зовут? Простите, вы сценарий...». Я его оборвала: «Что ты придуриваешься тут? Пришел — так сиди: нечего церемонии разводить». Он рассмеялся: «Боже мой, наш человек» — и мы моментально с ним подружились.
Конечно, судьба у Кеши была необычная. Великий актер, он столько накопил жизненных травм, что ему очень легко было свою душу на что-то такое настроить.
— Он же сидел?
— Ну да, а почему? В войну попал в плен, бежал, потом свои же отправили его в лагеря, но Смоктуновский был предан театру и все свои страдания, все пережитое умел...
— ...выплеснуть на сцене...
— ...вывернуть наизнанку, превратить в искусство.
— Вы собственноручно в «Берегись автомобиля» водили троллейбус или за вас это делал дублер?
— Сама, сама... Эльдар Рязанов предупредил: если я не закончу курсы вождения троллейбуса, он меня на эту роль не утвердит, поэтому я исправно посещала занятия. Кстати... Когда отмечали 80-летие Эльдара, были всякие юбилейные съемки и меня в Филевский парк привезли. Оказывается, мой троллейбус стоит там, как броневик Ленина, как историческая ценность, с надписью: «Этот троллейбус снимался в «Берегись автомобиля».
«Оператор меня проинструктировал: «За три метра до Иннокентия остановись». Легко сказать: во-первых, как это рассчитать, а во-вторых, Смоктуновский рвется вперед» |
— Вы не опасались задавить Смоктуновского во время знаменитой сцены встречи после его отсидки?
— Боялась жутко. Он же артист порывистый: «Люба, я вернулся!» — и на ветровое стекло бросается, а оператор меня проинструктировал: «За три метра до Иннокентия остановись». Легко сказать: во-первых, как это рассчитать, а во-вторых, Смоктуновский рвется вперед. Я, увидев это, по тормозам, а мне ведь тоже поиграть хочется, радость встречи изобразить. Струхнула тогда, но, слава Богу, Кешу не задавила.
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«Вечером он меня спрашивает: «Скажи, Ольга, что делать — у меня здесь в Одессе родная сестра живет. Я когда в лагере сидел под Норильском, она на мои письма ни разу не ответила, а теперь вот брата, «знаменитого артиста», в гости зовет... Я: «Она боялась, и ты ее не суди — кто из нас не боялся?». Он помолчал, потом спрашивает: «А ты пойдешь со мной?». Я согласилась...
В ту пору, да и много позже, никто не знал, что названный уже великим, удостоенный Ленинской премии, первый актер страны Иннокентий Смоктуновский воевал, был в плену, сидел в ГУЛАГе, вообще имел сложную, путаную, трагическую биографию... Кеша, у которого в Москве была репутация эгоцентрика-одиночки, занятого лишь собой, очень помог своим товарищам по заключению талантливым актерам Жженову и Лапикову: добившись славы раньше, всеми силами внедрял их в кино, рекомендовал самым лучшим режиссерам...
Финальный эпизод «Берегись автомобиля»: я еду на троллейбусе, а досрочно выпущенный из тюрьмы Смоктуновский-Деточкин, как обритый наголо зек, стоит посреди дороги, загораживая путь, и, увидев меня, тихо, счастливо произносит: «Люба, я вернулся...». Отсняв мой крупный план, оператор переводил камеру на стоявшего Смоктуновского. Я уползала из кадра под сиденье, а на мое место усаживался Рязанов, и Кеша должен был произнести эту коронную фразу, но у него ничего не получалось. Никогда столько дублей от великого Смоктуновского не требовалось, и вдруг он сказал: «Эльдар, у нас ничего не выйдет, если я на твою рожу буду смотреть... Пусть Люба, то есть Оля, остается на своем месте». Я вылезла из-под сиденья, он мне заулыбался — и сразу все получилось»... 
«Люба, я вернулся!», «Берегись автомобиля», 1966 год |
«У МЕНЯ ПОД БОТАМИ НИЧЕГО НЕТ», — ПОСЕТОВАЛА АХМАТОВА»
— Готовясь к этому интервью, я обратил внимание на то, какие люди прошли через вашу жизнь. Оказывается, вы общались с Ахматовой, и познакомила вас не кто-нибудь, а Раневская. Такие фамилии произносишь не то чтобы с пиететом — с трепетом.
— Это история давняя... Моя мама, как я вам уже говорила, работала у Жемчужиной, и когда Фаина Георгиевна приехала в Москву... Короче, у нее не было даже угла своего, и она пришла к Полине Семеновне какое-то для нее жилье попросить. Та помогла, сделала комнату у Никитских ворот, а мама моя, очень живой, непосредственный человек, тут же сообщила Раневской, что у нее две дочери учатся в театральном. Фаина Георгиевна даже пришла на выпускной спектакль смотреть мою старшую сестру. Я — Оля, сестра — Лена, она нас путала, поэтому называла обеих «Леля»: на всякий случай!
Когда я уже в Ленинградском театре комедии работала, она приехала на «Ленфильм» сниматься в сказке Шварца «Золушка».
— Ну да, в роли мачехи.
— Тогда только открылись коммерческие магазины, и Фаина Георгиевна подкармливала меня слоеными пирожками с мясом из «Норда»: парочку в этом кафе купит, принесет в театр и оставит на проходной. Жила она в «Астории» — я иногда к ней туда заходила. Однажды пришла, а там в жутких ботах, со спущенными чулками сидит Анна Андреевна Ахматова. «У меня, — посетовала, — под ботами ничего нет». Дамы собирались в Мариинку, и она примеряла Фаинины туфли: какие можно надеть.
— Бедность какая!
— Что вы! (Вздыхает).
— Ахматовой вас представили?
— Фаина Георгиевна ей сказала: «Это молодая актриса», а мне: «Леля, это Ахматова — ты знаешь, кто она?». — «Конечно», — кивнула. «Ты можешь почитать нам стихи Анны Андреевны? Будешь потом говорить, что сама Ахматова тебя слушала»... 
С Владимиром Высоцким в «Интервенции», 1968 год |
Ну, меня два раза просить не надо, и вдруг черт меня дернул: с перепугу или из какого-то хулиганства я встала в позу и стала читать есенинское: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет...». Наступила жуткая пауза, повисла буквально могильная тишина. Ахматова сидела, не дрогнув, а Фаина с состраданием произнесла: «А мама у нее говорит по-французски». Мне стало так стыдно: «Ой, ради Бога, Фаина Георгиевна, я забыла, сейчас другое прочту:
...Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.
После этого Анна Андреевна смилостивилась.
- Оттаяла, да?
— «Красный тюльпан», — сказала, — ты неверно читаешь: надо нараспев, на мотив восточной песни. Я в Ташкенте его написала».
— Говорят, Раневская была удивительно добрым, отзывчивым человеком: настолько не от мира сего, что однажды отдала какой-то женщине единственную свою шубу.
— Это было при мне. Я у нее сидела — она меня какими-то бутербродиками кормила, и вдруг снизу звонят: «К вам пришли». Входит старая побирушка: «Фаечка, ты меня помнишь? Мы же с тобой в гимназии вместе учились».
— В Таганроге еще?
— Да, и показывает фотографию, где Фаина видна: «Это наш класс». Та спросила: «Почему же ты без пальто?», а женщина развела руками: «У меня его нет». — «Господи, зима же на улице!». — «Ах, бедная я, несчастная! Фаечка, помоги!» — и Раневская отдала ей свою шубу. Когда та ушла, я подала голос: «Фаина Георгиевна, а в чем вы в Москву поедете?». — «У меня есть халат клетчатый очень хороший, теплый — из пледа». — «А вдруг это аферистка?». — «Так у нее же фотография». — «Ну хорошо, вы там видны, — возражаю, — а ее вроде нет. Она же не показала, что вот, это, мол, я». — «Леля, нельзя так плохо думать о людях», — отрезала Фаина Георгиевна, но уже с явным сомнением. Так в халате и уехала в международном вагоне «Красной стрелы».
Конечно, это была необыкновенная личность — Бог сподобил меня встречаться с людьми уникальными.
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
1987 год. Главная роль в спектакле Театра сатиры «Женитьба Фигаро» стала последней работой Андрея Миронова и на сцене, и в жизни. «Когда Андрей стал падать, его подхватил Шура Ширвиндт и втащил за кулисы. Андрюша в бреду все повторял: «Голова болит, голова...» |
«С Раневской мы виделись постоянно в Москве, когда я уже служила в Театре сатиры, а она — по соседству, в Театре имени Моссовета. Помнится, встретились однажды, я иду курю, и она идет курит. «Все куришь?» — спрашивает. «Да, — отвечаю, — а вы, Фаина Георгиевна, много курите?». Она: «Ну как тебе сказать... Когда чищу зубы с этой стороны, папиросу сюда перекладываю, когда с этой — сюда. Много это или мало?».
Однажды какой-то мужчина пришел в наш театр и сказал, что Фаине Георгиевне очень плохо — она лежит на улице Грановского в Кремлевской больнице и хочет видеть меня.
...Она лежала в палате одна, похожая на короля Лира: седые волосы разметались по подушке, глаза все время уходят под веки... Спрашиваю: «Фаина Георгиевна, как вы себя чувствуете?», а она слабым голосом: «Начнешь меня завтра по всей Москве изображать?». Я села рядом с постелью и стала ее ободрять, хвалить... Совсем зашлась в похвалах, чтобы она не лежала вот так безучастно с «уходящими» глазами: «Вы единственная, уникальная, больше в мире таких нет...», и тогда глаза приоткрылись, и с койки грозно так донеслось: «А Анна Маньяни?».
«ГАЕВ, ВЫ ИЗ БЛАТНЫХ?» — ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ МИРОНОВ У ПАПАНОВА»
— С вами в Театре сатиры играли потрясающие мастера — достаточно вспомнить Папанова и Миронова. Насколько я слышал, они не упускали случая друг друга поддеть...
— Ну, Толя-то Папанов — шпана усачевская, у него здесь, чуть ниже большого пальца (показывает), татуировка была — якорь. Обычно он его тщательно гримом замазывал, тоном, а однажды забыл, и когда с Лопахиным в «Вишневом саде» здоровался, Андрей Миронов, его игравший, эдак невинно поинтересовался: «Гаев, вы из блатных?». Папанов мгновенно ко мне подошел и стал тянуть руку для поцелуя. Я шиплю ему: «У нас это не поставлено», а он умоляюще: «Леленька, поцелуй руку, Леленька!». Я увидела якорь и все поняла. Губами по руке его поелозила, наколку красным замазала...
«Толя Папанов — шпана усачевская, был человеком крайностей, потому и артист замечательный». «Женитьба Бальзаминова», начало 80-х |
— Сложный у Папанова был характер?
— Еще и какой!
— А в чем сложность-то заключалась?
— В непредсказуемости. Он, знаете, был человеком крайностей — потому и актер замечательный. Разораться мог из-за пустяка, например, играли мы в «Горе от ума»: я — графиню Хлестову, а он — Фамусова. Пьеса, как известно, в стихах, и вот на балу у нас возникает небольшая перепалка. Хлестова рассказывает о ком-то: «Был острый человек, имел душ сотни три...». Фамусов поправляет: «Четыре...». Я: «Три, сударь...». Он: «Четыреста...». — «Нет, триста!» — говорю. «Как раз четыреста, ох! Cпорить голосиста!». — «Нет, триста, триста, триста!».
Папанов ошибся, вместо: «Четыре», сказал: «Три» — в стихах. Я тогда взяла его реплику: «Нет, четыре».
— Поменялись...
— Он совсем обалдел. «Ох, — говорит, — спорить голосиста». Я: «Четыреста, четыреста». В общем, запутались, стали друг на друга орать. Он выскочил за кулисы: «Надо Грибоедова читать, это классик, Леля! Что вы себе позволяете? Не учите роли...». Раскраснелся, своим жабо трясет — Толя, когда играл дворянские роли, очень любил наклеенные ресницы, розовые щеки... Я ему: «Дурак, не ори, ты сам все напутал. Там 20 человек стоит, спроси у них, что ты сказал — вместо «четыреста» брякнул: «Триста». Он побежал за книгой, схватил ее, а потом бухнулся передо мной на колени: «Прости, Леля!». Я плечами пожала: «Ты мне тут Малый театр, пожалуйста, не устраивай».
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«Я знала Толю даже не со студенческих времен, когда он учился в ГИТИСе, а я — в МГТУ по соседству, а с самого детства. На Усачевке жила моя родная тетка Надя, одна из семи папиных сестер, а у нее был сын Юрка, чуть постарше меня, и он приводил с улицы долговязого некрасивого подростка. «Олечка, — шептала мне тетка, — Боже тебя упаси с этим парнем знакомиться! Он из усачевской шпаны — не знаю, что твой брат в этом хулигане находит». Хулиганом да «усачевской шпаной» был будущий знаменитый актер Анатолий Дмитриевич Папанов.
С Юрием Никулиным и Георгием Бурковым в картине «Старики-разбойники», 1971 год |
...Первая встреча Толи с моей мамой едва не закончилась скандалом. Как-то я привела его с Юрой Хлопецким, обоих моих давних друзей, домой. Мы приготовились праздновать мое возвращение из Ленинграда в Москву, и нарядная мама уже села за стол, как вдруг Толя спросил меня, сколько я буду получать в Театре сатиры. Оказалось, что моя зарплата больше, чем его, Папанова, на три рубля. Он мгновенно разъярился, схватил меня за отвороты жакета, прижал к стене и начал душить, выкрикивая яростные ругательства, что, мол, девчонке посмели дать жалованье больше, чем ему, талантливому актеру... Мама поднялась из-за стола и спокойно сказала: «Анатолий Дмитриевич, вы будете знаменитым актером... Я совершенно в этом уверена: у вас такой потрясающий темперамент, но только, пожалуйста, оставьте мою дочь Олечку — вы убьете ее, а она тоже талантливая актриса...». Разъяренный гигант, чуть ли не колотивший меня головой о стену, тут же утих...
Иногда в Толе и правда просыпался прежний уличный хулиган — он становился страшным хамом, орал что ни попадя, в выражениях не стесняясь... Потом мучился, стыдился себя: «Леля, ты не смотри, что я такой хам, — у меня в душе незабудки цветут». Незабудки действительно цвели — Толя был замечательно верным, никогда не предавал друзей. Моей обидчице, даром что та была дамой, как-то влепил пощечину, трогательно любил свою чудесную жену — нашу актрису Надю Каратаеву...
Одно время Папанов сильно пил, а потом резко, в один день, бросил. Когда пил, Надя боялась оставлять его дома одного. Звонит как-то утром по телефону (мы с ней детский спектакль должны были играть) и просит совета: «Толя требует водки, а мне... пора уходить», но в театр Надя не опоздала. Спрашиваю, как она с Толей устроилась. Отвечает: «Обула его в валенки, вывела на балкон и собачьей цепочкой приковала к решетке». Я со смеху и роль играть не могла...».
— Миронов легким был человеком?
— В общем-то, да.
— В театре его любили?
— Женская часть — очень. Он, как вам сказать, чересчур обеспеченный был по сравнению с другими актерами: приезжал на BMW, курил «Мальборо».
Ольга Аросева: «Бог сподобил меня встречаться с уникальными людьми»
Фото Феликса РОЗЕНШТЕЙНА |
— Страшное дело!
— Понимаете? — а ведь в те годы артисты довольно нищими были.
— Коллеги по сцене, надеюсь, радовались за него от души?
— Да, разумеется (смеется), — точь-в-точь, как недавно у меня на юбилее, когда мне подарили «бьюик»... Вывезли на сцену машину, повисла пауза, и Шура Ширвиндт, сидевший рядом со мной, тихо сказал: «Посуровели лица товарищей». Вот так же «суровели лица товарищей», когда Андрей появился в театре, но он был такой шармер: легкий, веселый, анекдоты рассказывал — компанейский, одним словом.
«ТЕЛО АНДРЕЯ МИРОНОВА ЛЕЖАЛО В РАФИКЕ НА ЛЬДУ, ЗАКУТАННОЕ, КАК МУМИЯ, В ПРОСТЫНИ»
— Это правда, что Миронов умер практически у вас на руках?
— Не у меня — на гастролях в Риге во время спектакля «Женитьба Фигаро».
— Но вы же его вроде держали?
— Мы его все держали... Когда Андрей стал падать, его подхватил Шура Ширвиндт.
— Вы в это время были на сцене?
— Да, играла Марселину, его мать. Шла последняя наша сцена, он произнес: «Прощайте, матушка!», я: «Прощай, сынок!»... Помню, я с кем-то за кулисами поделилась: «Каким глубоким артистом Андрей стал — так проникновенно сказал: «Прощайте, матушка!», а потом выходят пейзане на сцену, и он читает свой монолог против графа: мол, что тот себе позволяет... Начал тихо, по нарастающей, и вдруг стал цепляться за кулисы, его повело куда-то: «А-а-а!». Ширвиндт — граф Альмавива — подхватил Андрея на руки и втащил за кулисы.
— Занавес дали?
— Да, вышел Зяма Высоковский, извинился за то, что мы не можем закончить спектакль... Миронов несколько минут не доиграл... Мы положили его на стол, где было множество искусственных цветов, приготовленных для финала спектакля, — Андрюша, еще живой, лежал, как в гробу, без сознания... Потом у него изо рта пошла пена, он пытался смахнуть ее непарализованной рукой и в бреду все повторял: «Голова болит, голова...».
— Умер он прямо там, за кулисами?
— Его отвезли в больницу. Шура сказал мне: «Кандель (известный врач-нейрохирург, муж сестры Иосифа Кобзона. — Д. Г.) в Риге — найди его». Мы его как-то там встретили, и я думала, профессор в гостинице «Рига» живет, что напротив Оперного театра, поэтому прямо в костюме Марселины побежала узнавать, нет ли его там, но он остановился в гостинице Совмина. Я ему позвонила, с перепугу даже отчество забыла. «Эдик, — кричу, — это Оля Аросева! Андрею плохо, увезли в больницу». — «В какую?». Он тут же туда поехал, но было поздно. Потом позвонил мне, сказал, что надежды нет: «У него все мозги в крови плавают — лопнула аневризма».
— Какой-то рок: в одно лето Театр сатиры потерял двух своих главных звезд — Папанова и Миронова. С интервалом...
— ...в девять дней.
— Их что же, без коллег хоронили?
— Ну почему же — латвийское правительство бесплатно выделило самолет. Андрея, правда, повезли на машине. Это было ужасно: я его провожала и видела... В рафик загрузили лед, и на нем даже не гроб стоял, а лежало тело, закутанное, как мумия, в простыни. За ним ехал, по-моему, Гриша Горин, еще кто-то, а все, кто был от работы свободен, сели в самолет и полетели в Москву...
— Гастроли, однако, театр не прервал?
— Нет, причем играли на двух площадках. Когда умер Папанов, вместо спектакля, где он был занят, творческие вечера давал Андрей, а когда не стало Миронова, вечера проводили я, Зяма Высоковский и кто-то еще. Я Андрея не хоронила — была как раз задействована в постановке, а вот Толю в последний путь провожала. Ездили всего несколько человек: Державин, Нина Архипова, я, Ткачук...
Из книги Ольги Аросевой «Без грима на бис».
«...А начиналось лето безмятежно — в Прибалтике, при сплошных аншлагах, в чудесную солнечную погоду. Мы отыграли в Вильнюсе и должны были переехать на автобусах в Ригу. Папанов тоже сыграл свой знаменитый спектакль по пьесе Розова «Гнездо глухаря» и на пару дней решил подскочить в соседнюю Карелию, досняться в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего», где у него была главная роль..
Мы благополучно приехали в Ригу. Ждем Толю на вечерний спектакль, на «Рыжую кобылу с колокольчиком», где и Надя Каратаева, его жена, была занята.
Перед выходом из гостиницы Надя обеспокоенно стучит мне в дверь: «Знаешь, что-то Толича нету. Самолет прилетел, я в аэропорту справлялась, но Толича среди пассажиров нет. Может, решил добираться не самолетом, а каким-нибудь другим транспортом и прямо в театр поехал?».
Пришли в театр. Папанова нет, значит, главный исполнитель отсутствует, а спектакль начинается ровно в семь вечера. И Плучека нет — он в Юрмале.
Решили играть вместо спектакля концерт — Державин, Ширвиндт, Мишулин, я — все, кто был занят в спектакле и находился в театре (за Борей Рунге послали в гостиницу).
Нам говорят: «Шура, Миша, вы начинайте. Потом Спартак выйдет, потом Оля с Рунге...».
Тем временем Надя все звонит и звонит домой в Москву, и никто ей не отвечает: дочь, актриса Театра Ермоловой, на даче.
Мы играем концерт, и вдруг меня словно осенило — шепчу Боре Рунге в кулисе: «Толя мертв, иначе дал бы о себе знать. Он такой обязательный человек, что сделал бы это непременно — даже если бы свалился пьяным, все равно его последние слова были бы: «Сообщите в театр любым способом!..».
Надя дозвонилась наконец до соседей, чтобы те пошли и постучали в дверь папановской квартиры. Она дозвонилась и до пункта охраны, где ей ответили, что квартира Папанова с охраны снята. Значит, кто-то там был.
Актриса Нина Архипова, жена Менглета, звонит своей дочери и просит ее съездить на папановскую дачу, чтобы попросить Лену, Толину и Надину дочку, живущую там, срочно выехать в Москву и узнать, где отец.
Мы все сидим в номере у Нади, не расходимся, и вот часа через два звонит ее зять и говорит: «Надежда Юрьевна! Анатолия Дмитриевича нет». Надя не понимает: «Как это нет?». — «В живых нет», — отвечает зять.
У Лены с мужем был ключ от отцовской квартиры — они открыли дверь, вошли, а мертвый Анатолий Дмитриевич сидит в ванне.
Если все это подробно описывать, получится театр ужасов. Что близкие люди при таком известии чувствуют, что говорят? Мягкая, тихая, добрая Надя вдруг стала кричать: «Товарищи, я вдова! Я сейчас черное платье надену! Толич, Толич, что ты учудил?».
Произошло вот что. Рейс из Карелии в Прибалтику отменили, и Толя, на день раньше закончив съемки, решил полететь в Москву, а из Москвы вечерним поездом вернуться в Ригу. Приехал домой, а в Москве то лето было очень жарким — вот и полез в ванну. Горячей воды, как нередко случается в столице летом, не оказалось, пустил холодную. Видимо, произошел спазм сосудов головного мозга — Толя упал и умер в ванне».
— Не всякий театр смог бы устоять, оправиться от такого удара — смерти двух ведущих актеров...
— В Латвии тогда отдыхал молдавский писатель и драматург Ион Друцэ. «Это, — сказал он, — библейская история».
| 

|

